Живая клетка дизайна
 Наследие Якова Чернихова никогда не покроется нафталином. Им восхищаются, его изучают и даже воруют. Выставка в Музее Архитектуры 149 работ Якова Георгиевича Чернихова из коллекции его сына Дмитрия Яковлевича – настоящая находка для дизайнера, учитывая печальный факт: 700 из 2000 экспонатов другой коллекции, хранящейся в РГАЛИ, украдена и находится в розыске.
Наследие Якова Чернихова никогда не покроется нафталином. Им восхищаются, его изучают и даже воруют. Выставка в Музее Архитектуры 149 работ Якова Георгиевича Чернихова из коллекции его сына Дмитрия Яковлевича – настоящая находка для дизайнера, учитывая печальный факт: 700 из 2000 экспонатов другой коллекции, хранящейся в РГАЛИ, украдена и находится в розыске.Выставка в Музее Архитектуры 149 работ Якова Георгиевича Чернихова из коллекции его сына Дмитрия Яковлевича – настоящая находка для дизайнера, учитывая печальный факт: 700 из 2000 экспонатов другой коллекции, хранящейся в РГАЛИ, украдена и находится в розыске.
Среди экспонатов – фрагменты из знаменитой (самой прагматичной!) индустриальной серии "Архитектурные фантазии, 101 композиция" (ставшей бестселлером еще при жизни автора), тончайшие объемные цвето-графические орнаменты-трансформеры, таблицы шрифтов – от латиницы и древнерусского до арабского и финикийского (в том числе 63 неизданных!), а также фантастический камеральный цикл деревянных ветряных мельниц, скачущих по горам, будто мультфильме Миядзаки.

Экспозиция способна вывести из равновесия даже закоренелого компьютерного маньяка: все это динамическое, виртуальное великолепие отрисовано вручную.
Здесь не только можно пополнить собственный "Черниховский" запас неизвестными оригинальными работами, но и получить редкий по своей мощности концептуальный заряд от апостола дизайна, вобравшего в себя все противоположные "измы" своей эпохи. Чернихов – безусловно, не автор, но метод, открытый заново в 80-х Европой, Америкой, Японией. И помогающий нам сегодня.
Алхимия Чернихова – превращение идеи в рисунок, рисунка – в функцию, функцию – в реальность, реальности – в красоту. Он глубоко верил, что в будущем универсальным способом человеческого общения станет графика. Судите сами, ошибся ли он.

Чернихов начал свою деятельность на излете конструктивизма, был заранее обречен на кличку "утопист" и разделил со многими режимный перевод авангардной архитектуры в "бумажный" и теоретический формат. Однако ему дольше всех удавалось отстаивать реализацию авангардных проектов, а затем лучше всех применить свои архитектурные наработки к плоскостным жанрам – орнаменту, шрифту, рисунку. Возможно, он заработал прозвище "русский Корбюзье", когда активно строил. А когда в архитектуре возобладал "сталинский ампир" и он занялся живописной архитектурой – дворцовой, исторической, сказочной, Чернихова стали называть "Советским Пиранези".

К периоду активной стройки, помимо серии "Архитектурных фантазий", относится и выставленный в отдельном зале дневник 1935 года. На страницах - лишь названия проектируемых объектов, и ни слова больше. Зато какой тут разгул для архитектора-дизайнера-рекламиста! В планах Чернихова: газетно-плакатные и фонарные эстампы, электро-рекламы и световые колонки, вывески и щиты, афишные тумбы и сами афиши, телефонные будки и стоянки такси, аркады к весеннему базару, фронтоны, вазы, водостоки, скамейки, киоски, ограды, павильоны летних садов – целый город, связанный одной целостной функциональной и эстетической задачей! Может быть, в условиях рынка превращение Москвы в мусорную карзину - суровая неизбежность, но кто не мечтает, воспарив на высоту вертолета, удачно встроить рекламное сообщение в городской ландшафт? Чернихов славился и замечательным дизайном своих выставок и авторским оформлением книг.
Он был крайне скуп на слова, предпочитая и призывая наглядно показывать, а не рассказывать. Может быть, поэтому экспозиция буквально бурлит сопроводительными текстами: повторяясь по три раза, они взахлеб объясняют очевидное и скрытое.
Очевидно, что, стремясь придать изображению функциональность, Чернихов явился настоящим предтечей компьютерной графики и оставляя далеко позади плоскостной супрематизм и словесные манифесты Малевича. С помощью циркуля и цветного карандаша он возвел повторяющийся ритм симметричного орнамента в сгусток пульсирующих соотношений, могущих отныне развиваться в любом направлении. Этнические орнаменты он считал осциллограммами культур, и этот осциллографический принцип перенес на шрифты. В классических шрифтах Чернихов обнаружил принцип золотого сечения и, опираясь на метрико-графическую, модульную константу, создал так называемые сетки для множества шрифтов – как исторических, так и национальных, запустив тем самым невидимый маховик будущего креатива и производства.


Говорят, что феномен Чернихова – в последовательном архитектурном взгляде на вещи, включая саму архитектуру. Так, будучи гениальным педагогом, он учил вчерашних рабочих и крестьян решать сложные архитектурные задачи с помощью специально разработанного метода вольной беспредметной компановки. "Мне удалось доказать, что графической грамотности можно также научиться, как можно человеку вообще стать грамотным", - писал он. Рисунок было для него синонимом проекта, а тот выглядел без пяти минут реальностью. Не случайно его символические, исторические и сказочные циклы, будь то "Дворцы коммунизма", "Пантеон Великой Отечественной Войны", Вавилон или ветряные мельницы выглядят как сны зодчего. "Классика, совершив свой путь и создав величайшие памятники искусства, в дальнейшем дала возможность на базе своих достижений пользоваться ею и "варьировать" в самой пространной форме всеми ее ценностями", - писал он. Чернихов признавался: создавая свои фантазии, он надеялся на то, что " мозг человека никогда не сможет создать абсурда". Инженерный ум исключал не только лишние слова, но и черновики: Чернихов работал набело.

Но как бы сильно не было развито его функциональное чутье, от тупой прагматики Чернихов отказаться умел:
"Архитектура становится искусством только тогда, когда ее творения воспринимаются как ценности художественного порядка". "Отвергая голую, аскетическую коробочную архитектуру, не дающую никакого архитектурного насыщения пространства и не удовлетворяющую ни с эстетической стороны, ни со стороны эмоциональных переживаний, я пытался путем созвучия основных масс добиться действительно выразительного архитектурного образа"

Промышленный строитель-экспериментатор, неутомимый учитель рабфаковцев, конкретный и дотошный геометр, Чернихов до конца жизни праздновал Рождество и Пасху: самолично расписывал яйца и готовил напиток из кагора.
Выставка продлится до 30 октября. Фотографии публикуются с разрешения МУАР.
16.10.2007










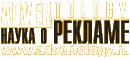
Комментарии
Написать комментарий